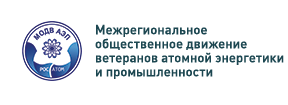Аварии никогда по плану не бывают
все статьи
01 июля 2013
Аварии, где бы они ни случались, предвидеть, спрогнозировать, предусмотреть их возможность и предупредить — задача, с которой человечество просто не может справляться со времен всей истории своего существования. Все аварии, конфликты, войны и прочие инсинуации местного, регионального и вселенского масштабов происходят только по причине фатального нежелания достижения элементарного консенсуса (как сейчас модно, со времен правления развалившего СССР М. С. Горбачева, говорить), между людьми, между людьми и машинами, между сообществами, нациями, государствами и, наконец, всех вместе взятых — с Природой!
Аварии, где бы они ни случались, предвидеть, спрогнозировать, предусмотреть их возможность и предупредить — задача, с которой человечество просто не может справляться со времен всей истории своего существования. Все аварии, конфликты, войны и прочие инсинуации местного, регионального и вселенского масштабов происходят только по причине фатального нежелания достижения элементарного консенсуса (как сейчас модно, со времен правления развалившего СССР М. С. Горбачева, говорить), между людьми, между людьми и машинами, между сообществами, нациями, государствами и, наконец, всех вместе взятых — с Природой!
26 апреля 1986 года я (тогда — заместитель главного инженера по эксплуатации Курской АЭС), где-то около 10 часов утра, приехал на работу. Была — суббота. Но, в те времена, когда в работе находилось уже 4 энергоблока-миллионника, это было рядовым случаем и многие руководители АЭС приезжали, каждый на свое короткое время, чтобы в спокойной обстановке поработать с документами, посетить наиболее проблемные рабочие места, поговорить с персоналом в неформальной обстановке и т. п. Каждый работал по своему собственному плану. Никто нас не заставлял и не препятствовал так поступать. Так было и в этом моем случае.
Припарковав машину на площади перед АБК, я направился к административному корпусу (АБК) и обратил внимание на то, что, в стоявшую у входа специальную машину нашей внешней дозиметрической службы, дозиметристы АЭС загружают дозиметрические приборы: ДП-5, «Карагач» — они габаритны и знающему человеку их опознать не составляло труда, и какое-то еще имущество в коробках. При этом лица у людей — сосредоточенные, чувствуется внутреннее напряжение, на окружающих не обращают особого внимания.
Я подошел, к стоявшему у машины и следившему за погрузкой, начальнику нашей внешней дозиметрической службы Коханову Виктору Яковлевичу и спросил: «Что происходит? Куда это вы собираетесь?» На что он, явно не желая отвечать, а я это понял по его какому-то напряженному виду, пробурчал: «Выезжаем на учения». И скрылся от меня за машиной. Я, ничего особого не подозревая, подумал: «Странно. Обычно я, подолгу своей службы, обязан был бы знать и всегда знал обо всех и всяких учениях и подобных мероприятиях на АЭС, т. к. в них всегда присутствовал оперативный персонал, который находился в моем подчинении».
Ну, ученья, так — ученья. Погруженный в свои мысли, обдумывая по пути, чем сегодня я должен был заняться, не придав никакого особого значения этому событию (мало ли что, у дозиметристов могут быть и свои планы, свои собственные учения и тренировки), ушел к себе в кабинет. Проработав часика три, собрался и уехал на дачу.
В понедельник (28 апреля 1986 г.), как всегда к 8-00 пошел в кабинет к директору станции Гусарову Владимиру Ивановичу на регулярное утреннее оперативное совещание. По пути, как обычно, зашел в кабинет к заместителю директора по ядерной безопасности, к легендарному Тому Петровичу Николаеву, лауреату Ленинской и Государственной премии, и обратил внимание на его необычное, для этого исключительно выдержанного че6ловека, состояние. Он, до того, никогда со мной так нервозно и резко не здоровался и, тем более, никогда так не разговаривал. Я его спросил: «Что-то случилось?». Он мне пробурчал: «Пошли на оперативку!» И никаких комментариев.
Директор начал оперативку с того, что сообщил: «На 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупная авария. Причина пока не выяснена, но возможно, что она связана со взрывом водорода. Идите все по рабочим местам, проведите с оперативным и ремонтным персоналом соответствующую работу о повышении внимания к безопасности работы оборудования. Прекратите не особо важные переключения и изменения в технологических режимах до особого указания. Составьте программы проверки мест возможного непроектного (неконтролируемого) наличия водорода в главном корпусе и недопущения (при его наличии) его взрыва» Все. На этом оперативка закончилась! Никакой информации о радиационной обстановке на ЧАЭС, никакой — за ее пределами. Вопросы. Вопросы и — никаких ответов.
Мы, озадаченные и удивленные скудостью информации (ведь Курская АЭС — копия Чернобыльской!), что же такое там произошло(?), отправились по своим рабочим местам. Уверен, что в каждом из нас поселилось чувство тревоги. Неявный враг хуже явного. Это понятно всем. Каждый из нас, наверняка, спрашивал себя: что же может и у нас «такого» произойти, которое произошло на ЧАЭС, и они не могут нам уже по прошествии более чем суток подсказать?! Мы все прекрасно знали, что в главном корпусе имеется всего два источника возможного появления водорода:
- бак СУЗ (системы охлаждения контура системы управления и защиты) в реакторном отделении (цеху) и
- корпуса генераторов в МЗ (машинный зал турбинного цеха, где располагались 8 таких генераторов, т. к. работало уже на Курской АЭС к этому времени уже 4 энергоблока), в которых находилось по 90 м3 водорода под давлением 6 кг/см2.
При этом мы знали, что бак СУЗ имеет естественную сдувку (вытяжку, вентиляцию не перекрываемую ни при каких условиях, кроме умышленного), и, следовательно, водород там не мог скопиться по определению. Машинный зал (в случае утечек водорода из контура охлаждения генератора) тоже оборудован естественной вентиляцией, встроенной в его крышу. Все это предусмотрено проектом. Мы все это знали, были уверены в невозможности скопления взрывоопасных смесей в этих местах, и, не зная случившегося на ЧАЭС, уж никак это не могло быть связано с целостностью активной зоны реактора но, однако тщательнейшим образом во всем удостоверились с составлением соответствующих актов проверки.
Проходит день, новых сведений из Чернобыля нет. С тревогой расходимся по домам, дав соответствующие распоряжения персоналу усилить бдительность и внимание за работой оборудования и при любых малейших отклонениях докладывать (каждому по своей принадлежности) и, при малейшем поводе или сомнении, высылать дежурную аварийную машину за руководством. Вызывать любого, кто потребуется! Короче. Обстановка, как перед боем. Приехал вечером с работы домой и — к телевизору (28 апреля 1986). В 21-00 информационная программа «Время». Молчок. Молчок, черт возьми!
Утром, 29 апреля, — на работу. В 8-00 — как всегда оперативка у директора. Никаких новостей, кроме наставлений: усилить внимание и бдительность! Весь день в напряжении, в бессмысленном, назойливом поучении персонала, который был сам на взводе и ждет от нас хоть какой-то ясности и информации с Чернобыльской АЭС. Мы, конечно, сами, каждый по своим каналам и связям, пытались хоть что-то узнать. Но! На ЧАЭС — не дозвониться. В ВПО «Союзатомэнерго» (наше Главное управление) никто ничего не говорит, в ЦДУ Минэнерго СССР ничего не знают...??? Приехал вечером домой — к телевизору. Ждем 21 часа, программу «Время». Не помню ведущего, но не сразу, а третьим или четвертым по счету событием из его уст прозвучало: «В ночь с 25 на 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошла крупная авария. Четвертый энергоблок остановлен. Причины аварии выясняются». Все!? Все?! Так что же произошло?????
Информация длилась ровно столько секунд, сколько необходимо для прочтения этой фразы вслух!? Прочитайте это сообщение сами себе вслух и засеките затраченные на это секунды, сами! И Вам станет все «ясно»! А если к этому добавить еще то, что при этом, в течение максимум половины замеренных вами этих секунд, на самом дальнем горизонте экрана телевизора показали 4-ый энергоблок на фоне ночного неба. Я, лично, ждавший этот момент все эти дни, видавший и Курскую, и Чернобыльскую АЭС в самые разные времена года и суток, зная их виды с любой точки планеты, ничего не сумел рассмотреть, понять и тем более осознать.
Следующие дни — обычная рутинная работа по давно запланированным месячным, квартальным, полугодовым и годовым графикам и программам, которые, конечно же, предусматривали увеличение выработки электроэнергии в этом году. Все, как обычно. Но! Но, под изнурительным психологическим гнетом: с Чернобыльской АЭС — никакой ясности, хотя, конечно, по «сарафанному» радио понемногу, по крупицам (ведь у нас — профессионалов, в чьих руках точно такая же АЭС, была дичайшая потребность в понимании причин произошедшего) начала накапливаться информация, слегка складываться и прорисовываться картина. А вернее — пока еще только эскиз.
Начали появляться беженцы, вернулась та первая партия дозиметристов, «немых» по известным причинам, и другая, казалось бы, совсем не относящаяся к этому событию информация. Все это мы прокручивали через себя, обсуждали кулуарно, выискивая истину, по миллиметру приближаясь к ней. Напряжение не спадало. Мы начали осознавать, что там произошло что-то невероятное, крупное, масштабное.
Информация к размышлению: Курский аккумуляторный завод отправил на ЧАЭС все свои запасы алюминия. Туда перемещаются сотни, тысячи машин и механизмов самого различного назначения (автобусы, грузовики, самосвалы, грузоподъемная техника, бульдозеры, моечные машины, гравий, металл, цемент — т. е. все: что только могло двигаться и все, что только можно было перевезти! Что и зачем? Потом разберемся!?). Всколыхнулась вся страна. Становилось все понятнее, что там, в Чернобыле, произошло что-то не происходившее ранее, разве что — война!? Слово ЧЕРНОБЫЛЬ стало ПАРОЛЕМ, ПРОПУСКОМ в святая святых! Даже — для КГБ! И ЦК КПСС — тоже! Я в этом потом сам убедился на собственной «шкуре».
«Я — из Чернобыля!» и «Я — в Чернобыль!». Это — пароль и пропуск «Всюду!». Открывались все двери и ворота, без очередей билеты на пароходы, самолеты, поезда, в больницы, в школы, детские сады, музеи, кинотеатры, во все, с чем только жил и чьими услугами пользовался народ. Советский народ!
Впоследствии, вспоминается один эпизод из телепередачи «Прожектор перестройки» по 1-му каналу Центрального телевидения времен начала горбачевской перестройки и начала «развития» гласности. Точно не помню год, вероятно 1987 или 1988. Как Вы помните, эту передачу вел, получивший заслуженную популярность журналист Александр Крутов, кстати — участник работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году. Я его очень хорошо знаю. Он, будучи в Чернобыле и на самой АЭС дважды брал у меня интервью под прицелом телекамеры. Брал интервью у моего сына Игоря, работавшего в команде Юрия Самойленко, которая занималась очисткой крыш от фрагментов активной зоны 4-го реактора. Брал интервью у моей будущей жены — Людмилы Николаевны Дятловой — главного специалиста ВПО «Союзатомэнерго». Она курировала ход работ по завершению строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию первого в СССР ХОЯТ (хранилища отработанного ядерного топлива), которыми по поручению Председателя Правительственной комиссии Геннадия Георгиевича Ведерникова (зампреда Совета Министров СССР) руководил (знать судьба!) я. И вообще, Саша Крутов проявлял всегда черты исключительно ответственного журналиста, не подверженного никакой конъюктурщине.
Так вот. Он на экране телевидения в своей программе беседует с каким-то корреспондентом (к сожалению, не помню его имя и принадлежность к каким-либо СМИ) об итогах, уже почти года с начала провозглашения, гласности, результатов перестройки и при этом задает вопрос собеседнику: «Что, по вашему ощущению, уже дала «гласность»? Корреспондент отвечает: «Очень много! Ну, вот хотя бы коснуться темы «Чернобыльская катастрофа». Раньше, при запрете гласности, можно было бы ожидать всего два варианта: Первый. Мы ничего бы не узнали об этой катастрофе и ее последствиях. Второй. А если бы не удалось скрыть ее появление (к чему нас принудили шведы), то Чернобыльская катастрофа, такого глобального масштаба, была бы признана, как самая «лучшая в мире авария».
Отвлечемся, читатель! Если таковой найдется. Вдумаемся! Сегодня, с высоты прошедших 27 лет со дня этой Катастрофы XXI века — Катастрофы планетарного масштаба (от Красноярска до Испании, от Швеции до Кавказа...) все, о чем я сказал чуть выше, так же становится «возможным» — но только через «самый басманный» суд в мире! Которому ни — Верховный, ни Конституционный нипочем, а Страсбургский, так ему — «самому басманному» на него и вовсе наплевать!
Борцы за права человека! Ауууу!!! Где Вы? Где Вы — борцы за права Человека, Героя, защитившего весь мир от радиационного поражения? Вы — красавцы! На нас ведь кормитесь! Имеете все блага на наших хребтах. За что? Объясните. Многим, из живых сегодня, даже если вдруг вы решите объясниться с ними завтра, — не застанете в живых! Имя себе подберите сами. Вам и Бог не судья! Ведь вымрет народ, чьи же вы права будете защищать? На чьей шее будете сидеть? А? Господа чичиковы! Не будет нас, не станет и вас! Так берегите народ, Человека! Иного пути ведь у вас нет! Эй! Вы там — наверхууу!!!!
Однако вернемся к теме. На Курскую АЭС я приехал в феврале 1975 года. Курская АЭС еще только подходила по своей готовности к завершению строительно-монтажных работ 1-го энергоблока. Работала только одна пуско-резервная котельная (ПРК), в поселке было построено и заселено строителями и монтажниками (эксплуатационники с боем выбивали себе жилье и жили, в основном, в общежитии на ул. Молодежная, дом 12). В апреле 1986 года Курская АЭС — первенец в истории Министерства энергетики и электрификации СССР — за 10 лет (!) превратилась в одну из мощнейших (4 млн. кВт!) атомных электростанций мира. (Что-то я за 20 лет «вожделенной» рыночной экономики новой России пока таких примеров не знаю, причем во всех отраслях народного хозяйства.)
При этом, одновременно в этот период строились и вводились в строй все новые и новые энергоблоки в Ленинградской области (г. Сосновый Бор), Киевской (г. Припять, Чернобыльский район), Запорожской (г. Энергодар), Смоленской (г. Десногорск), Тверской (г. Удомля), Воронежской (г. Ново-Воронеж), Хмельницкой (г. Нетешин), Ровенской (г. Кузнецовск), Свердловской (г. Заречный), в Литве (г. Снечкус), строились атомные станции теплоснабжения (АСТ, так и недостроенные, т. к. погублены в «лихие 90-е» в угоду возведению на трон «борца за демократию» Б. Немцова — губернатором Нижегородской области) в Нижнем Новгороде (бывший г. Горький) и в Воронеже... Были годы, когда в год вводилось в строй по три энергоблока — миллионника!
Отвлечемся, Читатель, если таковой найдется, вдумаемсяся! Снился ли когда-либо миру такой размах? Такой результат? Это же был порыв, который можно смело поставить следом за военными и послевоенными годами! И это — только в электроэнергетике! Но такое же происходило и в других отраслях народного (обрати внимание: народного, что означает, что все это для народа, а не олигархического, что означает, что все и вся только для кучки олигархов) хозяйства.
Читатель! Вдумайся! За тридцать, с небольшим, послевоенных лет советский народ, создавший одну из самых мощных в мире систем бесплатного образования и науку, вновь, в условиях изоляции, холодной войны и угрозы третьей, но уже иного качества, ядерной агрессии Запада совершает в эти же времена свой очередной трудовой Подвиг: создает «Атомный шит» Родины, осваивает космос, развивает химическую, металлургическую, авиационную, судостроительную, машиностроительную, угольную, нефтегазовую и другие виды промышленности СССР! При этом, во главу угла этого Подвига было поставлено всеобщее бесплатное образование и, как его следствие, — наука! СССР, в том числе и Россия, превратился во второе по могуществу государство в мире. Всего за тридцать, с небольшим, послевоенных лет! Безработицы не было! Читатель! А теперь сравни, что произошло за 20 последних лет, с момента распада СССР, т. е. с 1991 г.
В 1991 г. страна была отдана на разграбление. «Бери, сколько можешь!». Вот и грабили! Страна стала бандитской. В 2000 г. бандитизм был узаконен. Власть стала принадлежать бандитам. Коррупция, как раковая опухоль, пронзила все уровни власти. Разъяснять дальше? Хотя, вру! За эти 20 лет в России число миллиардеров (в 1991 г. их было 0) стало гораздо больше чем в США! Каково?
Однако вернемся к теме. До Курской АЭС, после окончания в 1961 году физико-технического факультета Томского Ордена Красного Знамени и Октябрьской революции политехнического института имени С. М. Кирова, был направлен на работу на п/я 153 (сегодня это — Сибирский Химический Комбинат) в г. Томск-7 (сегодня — г. Северск) и был принят на Объект № 5 (сегодня — Реакторный завод) инженером по управлению реактором. Попал я сразу на пуско-наладочные работы вводимого в строй самого мощного промышленного реактора по производству оружейного плутония. Всем сегодня известен термин — Атомный щит родины. Вот с него-то и началась моя трудовая деятельность. Но, если я Вам скажу, что такой термин мне стал известен много позже, то Вы мне не поверите. Но это было так.
На 5-ом объекте я проработал 14 лет, пройдя все ступени от инженера управления до начальника смены реакторного завода. Это был трудный, сложный и ответственейший период в моей жизни. Надо было осваивать абсолютно новую, до того никому не известную технику, технологию и оборудование. Мало того, надо было выполнять государственный план, какие бы трудности не встречались на этом пути. Но мне, и молодым специалистам (ну какие мы могли быть специалисты, если в институте всю науку мы постигали из лекций — учебников то не было) таким как я, просто везло (и везет до сих пор!), мы попадали в руки людей уже не однажды прошедших все исчадия ада освоения новых технологий и техники исследовательских, опытных, полупромышленных, промышленных, с каждым разом новых, но все более мощных реакторных установках, обладающих уже, хотя и в разной степени, огромным опытом. При этом особо хочу подчеркнуть, что это были люди (слава Богу, многие еще и сегодня с нами!) — мало сказать патриоты! Это были (и есть) от Бога подвижники, творцы, поэты и композиторы своего дела и наши главные учителя! А самое главное: это были (и есть) глубоко порядочные люди! Достанутся ли подобные моим внукам?
Итак. За 14 лет работы на таком сложном и опасном предприятии, я, конечно, насмотрелся всякого, и сам принимал участие в этом всяком. Но среди этого особое место занимала аварийная работа в условиях повышенного, а иногда и наивысшего уровня ионизирующего облучения. При этом надо честно признать, что такие условия возникали как по техническим причинам (ведь техника и оборудование было по сути дела эксклюзивным, до этого нигде не применявшемся), так и по причине так называемого сегодня «человеческого фактора». Причем, чем меньший срок работы оборудования, тем большая доля вины — его. Чем больше срок работы оборудования (конечно не больше проектного), тем доля вины в авариях и отказах персонала возрастает. И причины этого тоже ясны. Короче говоря, с работой в условиях повышенной, высокой и очень высокой радиационной обстановки я был обучен, имел немалый опыт.
К концу апреля обстановка, обуславливаемая неизвестностью причин произошедшего на Чернобыльской АЭС, достигла, во всяком случае, у меня, апогея. 2-го мая (1-го я не стал звонить — все-таки праздник), из дома (был выходной) позвонил в Москву начальнику ВПО «Союзатомэнерго» Геннадию Анатольевичу Веретенникову и сказал ( привожу почти дословно): «Геннадий Анатольевич! Я не знаю толком, что произошло в Чернобыле, но по моей скудной информации там требуется уже смена «экипажей». Я имею опыт работы в таких условиях и готов стать членом нового очередного «экипажа». На что он, немного поразмыслив (я так думаю) оценивая мою просьбу, ответил (почти дословно): «Спасибо. Однако продолжай работать на своем месте. Когда понадобится, вызовем. Спасибо». На этом разговор был закончен, но мне почему-то стало легче. Почему? Да кто его знает почему? Выйдя 3-го мая на работу, я как-то почувствовал себя лучше, как-то увереннее, и Чернобыль как-то стал не самым главным. Главным, но не самым. Информация, конечно, накапливалась, уточнялась, анализировалась (не может ли такое случится у нас?), но жизнь есть жизнь. Работа — есть работа и её надо делать, что бы, где бы, не происходило.
6-го мая, мы все, как обычно, к 8-00 пришли к директору на оперативку. Оперативка закончилась, я вернулся к себе в кабинет и занялся своими рабочими делами. 11-00. Звонок. Секретарь директора: «Евгений Михайлович, срочно к директору!». Ну, думаю, что произошло за этот час, как я от него вышел? Что за срочность? Вроде за мной производственных «должков» нет, все на моем участке идет по плану? И с этими мыслями, не думая ни о чем другом, пошел к директору. Прихожу, на поход ушло не более 3-х минут, — директора нет. Секретарь мне говорит: «Зайдите к главному инженеру (Ряхину Вячеславу Михайловичу)». Захожу. Он мне, чувствовалось у него какое-то волнение, говорит: «Проступила команда из Москвы срочно тебя отправить в Чернобыль. Собирайся. В 12-00 должен выехать, утром быть там, а я — доложить в Москву, что ты выехал».
Время уже 11-20, а я в 12-00 должен уже выехать?! Я ему говорю, что это просто физически невозможно: надо оформить командировку, получить деньги, заехать домой и собрать необходимое и т. д. и т. п. Главный, конечно же, это и сам понимал, но сказал мне, что в 12-00 он должен доложить в Москву о моем отъезде. И — баста! Время то было суровое, военное, в чем я впоследствии убедился сам, когда прибыл в Чернобыль. Там за неисполнительность генералов в одночасье разжаловывали в майоров, капитанов и старших лейтенантов. Легко!
Тогда, понимая его положение, сказал ему, что давай поступим так: «Ты в 12-00 докладываешь, что я уехал. Я же быстренько собираюсь, раньше 16-00 все равно не соберусь, и в 16-00, как получится, я уеду, и за все буду я отвечать. Но, чтобы так произошло, мне уже сейчас была нужна машина». Спрашиваю: «Со мной кто-нибудь еще поедет?». Оказывается, я с собой еще должен взять инженера и оператора с азотно-кислородной станции? Итак, надо собраться четырем мало знакомым человекам. О каких 12-00 и даже 16-00 могла при этом идти речь!
Короче. Говорю главному: «Докладывай в Москву, что в 12-00 я выехал, а мы, не теряя ни минуты, выедем тогда, когда соберемся, оформим командировки, получим деньги». Кроме того надо же было получить в отделе снабжения по нескольку комплектов спецодежды на каждого, средства индивидуальной защиты, продукты (кроме консервов брать ничего нельзя, пригодился томский опыт), дозиметры у дозиметристов и т. п., завести всех домой, собрать всем вещи в дорогу и только тогда — в путь. Но я пообещал главному твердо, что к утру мы будем в Чернобыле. На том и договорились. Я убежал собираться. Выехали мы в 17-38, как сейчас помню, потому как, на кону могла по тем суровым временам стоять судьба главного и моя — тоже.
Взяв атлас автомобильных дорог СССР, мы выбрали самый короткий маршрут, который пролегал через Чернигов, а через Киев путь был бы больше на 60-70 км. Погода стояла отличная: тепло, солнышко, дорога сухая и не загруженная. Ехали быстро, без остановок, разговаривали мало, каждый думал о чем-то своем, понимая свалившуюся на всех ответственность. Конечно, я старался (если — честно, то не очень) создавать и поддерживать простую человеческую атмосферу среди членов нашего маленького (из 4-х человек) 2-го десанта с Курской АЭС (после дозиметристов). Разговаривали о чем угодно, стараясь избегать предмета командировки. Все понимали, что нас ждет неизвестность, опасная неизвестность, при этом, степень этой ожидаемой опасности никто из нас не знал (впоследствии оказалось, что все наши даже самые пессимистические прогнозы оказались ничтожными по сравнению с действительностью).
Так как выехали мы поздно, то, несмотря на быструю езду, в Чернигов мы прибыли около 23 часов. Я в этом городе никогда до того не бывал, и, хотя было уже темно, с удовольствием обнаружил очень много зелени. Деревья и кустарники были уже обременены сочной листвой, во всяком случае мне, северному человеку, так показалось. Несмотря на поздний час, улицы были многолюдны, заполнены, главным образом, молодежью, что вполне соответствовало нашим представлениям об обычном укладе небольшого города. То, что люди не просто бродили, а были сбиты в небольшие, по 3-5-6 человек группы, возбужденно что-то обсуждавшие, мы, после довольно долгой дороги, уже немного уставшие и пытавшиеся определить правильный маршрут в незнакомом ночном городе, не обратили на это внимания. Но, всему свое время. И нам скоро пришлось ликвидировать этот пробел. Карты города у нас не было, как выехать из него в направлении Чернобыля мы, тем более в темноте и отсутствии указателей, не могли. Подъезжаем к очередной группке людей, я через открытое стекло пытаюсь расспросить дорогу на Чернобыль — группа рассыпается и без ответа исчезает. Едем дальше, останавливаемся около следующей группы людей, картина повторяется. Подъезжаем к третьей, молодые ребята шарахаются от нас, как от чумных, и убегают с криком: «Да туда же запрещено, там страшно! Туда нельзя!».
Мы поняли, и как оказалось потом — правильно, что все эти группы людей бурно обсуждали свое будущее через призму чернобыльских событий. А эти ребята, которые шарахнулись от нас, приняли нас за людей, приехавших оттуда, из Чернобыля, а значит «грязных» и представляющих для них опасность, как источники радиации, о которой они, вероятнее всего, и узнали-то только после этой аварии, но страх, имя которому — неизвестность, бежал впереди сознания.
Отвлечемся, читатель. Не неизвестность ли за свой завтрашний день приводит к тому, что сегодня, по данным Счетной палаты РФ «ЗА последние годы из России уехали 1 250 000 человек», численность населения в России постоянно сокращается. По данным Федеральной миграционной службы «Порядка 300 — 350 тысяч россиян (категорически не приемлю такую новую на земле „нацию“.) уезжают каждый год работать за рубеж». И ведь уезжают не скотники и дворники (теперь у нас дворники — одни таджики), а уехали инженеры, врачи, ученые, студенты. Старые ученые умирают, а молодые уезжают. Только в 2010 году от нас утекло за границу более 38 миллиардов долларов, из них в четвертом квартале — более 22 миллиардов (почти 60%) Вот что такое неизвестность!
Короче говоря, народу на улицах много, спросить — не у кого. При этом все обсуждают чернобыльские события и, наверняка, свое завтра. Даю команду водителю ехать на железнодорожный вокзал, тем более указатели были нашими молчаливыми, но самыми надежными провожатыми. Приехали на вокзал, я пошел искать пункт милиции, уж они-то наверняка должны были знать обстановку и владеть ситуацией, во всяком случае я так думал. К счастью, мои мысли не разошлись с делом. Я зашел в милицейский пункт, представился, сказал, кто я такой и что я и следующие со мной люди по указанию Москвы командированы в Чернобыль. Что мы в этих местах впервые, как проехать самым коротким путем в Чернобыль, тем более, ночью, не знаем. Кого ни спросим, все от нас, как от чумы, шарахаются и не хотят нам помочь, даже не разговаривают? Майор милиции, не знаю его имени, уставший, это было видно по его лицу и темпу разговора со мной, подтвердил наши подозрения, сказав: «Шарахаются от Вас не как от чумных, люди боятся что вы „грязные“, раз интересуетесь Чернобылем, значит радиоактивностью от вас „прёт“ за версту. Вот люди и шарахаются от вас. Ведь не только они, даже мы, которым, вроде бы, положено знать ситуацию и понимать, что делать, ничего, к сожалению, не знаем. А что же там все-таки произошло?» Этот вопрос он задал уставшим, заранее без надежды на вразумительный ответ, видать задавал его не раз и не одному за эти 12 дней, начиная с 26 апреля. К сожалению, и я ничего вразумительного не мог ему сказать, т. к. и сам ничего не знал. Единственное, что ему посоветовал поинтересоваться у работников санэпидемстанции, которые должны, обязаны, знать радиационную обстановку в городе. На мой вопрос, как доехать нам в Чернобыль, он мне сказал, что паромная переправа через р. Припять разобрана, в ту сторону ездить всем запрещено, поэтому в Чернобыль можно попасть только через Киев. Вот тебе бабушка и пироги!?
Мы ехали самым коротким путем, спешили. Боялись не подвести директора и главного, а тут предстоит отмахать по неизвестным местам, да еще ночью(!), еще почти сто верст. А вдруг, найдется какой-нибудь «ухарь», да спросит: «Где это вы болтались?». Но, надо было двигаться. Я сказал майору, что единственное, что я могу сделать, это дать ему пачку респираторов, которыми мы запаслись перед отъездом. Мы пошли с ним к машине, он пересчитал наш экипаж, взял упаковку респираторов (50 шт.), рассказал нам, как быстрее выехать на киевскую трасу, и мы поехали. Встреча с Черниговом и его жителями, конечно же, не добавили нам положительных эмоций. Но! Едем быстро, дорога хорошая, машин ночью нет. Около 2-х часов ночи, уже 7 мая, на въезде в Киев нас останавливает милицейский патруль. С ними дозиметристы. «Обнюхали» нас и машину. Чистые. Мы и не могли быть «грязными», т. к. до того ехали по «чистым» дорогам.
Расспросили, куда едем. Я показал командировочные удостоверения, паспорта и нас отпустили, пожелав счастливого пути. Хочу особо отметить, что разговаривали очень вежливо и с участием, давая понять, что едем мы не на блины к теще. (Сегодня, когда останавливают москалей, без «отступных» не отпускают. Правда, меня «не грабють», когда я езжу к сыну в Запорожье, отпускают, но только тогда, когда я им показываю удостоверение Участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС). Однако поедем дальше.
Проехав через ночной, спящий Киев и взяв твердый курс на Чернобыль, у нас все больше и больше, по мере движения к цели, возникало щемящее чувство предстоящей скорой встречи с неизвестным. Дорога была абсолютно пуста. Никого мы не обогнали и никого не встретили. Сказать, что тревога нарастала? Нет, чувства опасности не возникало. Но, неизвестность. Вот неизвестность, пожалуй, и не давала нам покоя. Я то, в свое время, в Томске-7, побывал в разных передрягах, связанных с радиоактивными источниками, время работы, в зоне действия которых исчислялось минутами и секундами, а мои спутники и на понюх не знали что это такое. Поэтому неизвестность для каждого из нас была своя! Я не знал, что же там произошло, а потому для меня главным был извечный русский вопрос: «Что же мне придется делать?» А для моего остального экипажа неизвестность, по мере приближения к Чернобылю, все острее перерастало в вопрос: «А насколько там опасно? » Каждому — свое! В машине почти гробовая тишина. Каждый занят своими мыслями, друг с другом делиться ими почему-то избегали.
В такой атмосфере мы проехали где-то полпути от Киева до Чернобыля. Ни одного поста ГАИ! Действующего. Закрытые, без света, без гаишников, таких мы проехали штуки три. Это тоже, конечно накладывало свой отпечаток на наше восприятие окружающей обстановки. Я говорю водителю (обратите внимание: мы в пути уже около десяти часов, никто не спит, водитель руль никому не отдает, хотя я и инженер, с азотки, ему предлагали отдохнуть и сесть самим за руль!), чтобы он остановил у первого попавшегося действующего поста ГАИ. Нам было уже пора перекусить и переодеться в спецодежду, которую предусмотрительно взял в отделе материально-технического снабжения, которым тогда командовал ветеран ВОВ, участник Сталинградской и Курской битв, Николай Дмитриевич Космолюк. Вечная ему Слава и долгие лета! Еще живой, курилка!
Начал чуть-чуть брезжить рассвет. Наконец слева, по ходу движения, мы увидели пост ГАИ со светящимися окнами и выглядывающими из них фуражками. Ура! Причаливаем. Наконец-то! Первые живые, кого мы встретили на всем пути от Киева! Поднимаемся. Здороваемся. Смотрят на нас как на изваяние. Откуда? Куда? И так далее. Объясняемся, показываем документы. Их удивлению нет предела. За последние двое суток мимо них никто не проезжал (?). Они уже здесь бессменно — трое суток. Связи с начальством нет. Еда кончилась. Гоняют пустой чай. Но — служба, есть — служба! Короче говоря, обстановка прояснилась, стало всем как-то легче, все-таки и мы и они встретили живых, а значит жизнь продолжается! Они поставили чай. Мы достали из багажника хлеб, завернутый в тонкий пластикат (другой упаковки просто не было), и консервы (банки все-таки уберегали содержимое от радиоактивной «грязи», томский опыт пригодился). Все с хорошим настроением поели и попили чайку (сахар у нас тоже был). Пока ели и переодевались в спецодежду, гаишники, соскучившись по людям, нам кое-что порассказали, что здесь творилось в первые дни после аварии. 27 апреля началась эвакуация населения из г. Припяти и близлежащих населенных пунктов. Однако, уже во второй половине дня 26 апреля многие люди на собственных машинах, лошадях, велосипедах, тачках и просто пешком двинулись от греха подальше. Дороги были забиты беженцами. Картина в чем-то напоминала годы отступления Советской армии в первые дни и месяцы Великой Отечественной. И так продолжалось несколько дней.
Однако, пора в путь. Переодевшись, поев и «нагрузившись» новой информацией, мы с другим, лучшим настроением (встретили живых в этой безмолвной «пустыне»!) тронулись в путь к конечной цели. Уже начало ощутимо светать. Едем. Проезжаем деревни, ни души. Только в некоторых домах на подоконниках сидят и смотрят на нас кошки, кое-где бегают куры. Но особое внимание мы обратили на собак. Заслышав шум машины, они украдкой выглядывали из-за углов домов, но стоило нам к ним приблизиться — убегали от нас, действительно как от чумных, либо прятались в подворотнях. Обратить то мы на это обратили внимание, но понимание причин такого странного их поведения я узнал только позже.
Оказывается, собаки, брошенные хозяевами, оставшиеся без пищи (они ведь иной пищи, кроме как от хозяина, с рождения не знали!), стали сбиваться в стаи, и было немало случаев их нападения на людей. Представьте себе. К вам приближается стая собак. Собак, не волков. Это волки боятся человека, а собаки? Это человек боится волка, а собак? Собаки, выросшие рядом с человеком, его не боятся, в редких случаях агрессивны к человеку, разве только тогда, когда он покусится на ее какие-то «завоевания» (территорию, пищу, свободу...). Брошенные голодные собаки, не приученные сами добывать себе пищу, прежде всего ищут людей, которые их «должны» накормить, и, не получив ожидаемого, сами нападают на человека. Было зафиксировано много случаев нападения таких стай на людей. Тогда и создали бригады людей из числа киевских охотничьих обществ, которым была поставлена задача отстрелять таких бродячих собак. Что они и делали. Машинами увозили и закапывали собак, от некоторых из которых «разило» более чем 100 бэровским «запахом». Некоторые собаки поняли, откуда им грозит опасность, и они стали прятаться от людей. Вот таких собак мы и наблюдали, подъезжая к Чернобылю.
В Чернобыль мы въехали ровно в 6-00 утра 7-го мая. Город спал. Ни одной живой души на улице. Где и что расположено (а нам нужно было найти Председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Геннадия Александровича Шашарина, в распоряжение которого я был командирован) — спросить было не у кого. Даю команду водителю искать пожарную часть, уж там-то точно должны быть люди. Нашли. Спят. Разбудил дежурного: «Где заседает Правительственная комиссия?» — «В здании горкома КПСС, езжайте по главной дороге». Едем, выезжаем на площадь. Видим, с левой стороны площади скопление, главным образом военных, машин и бронетранспортеров. Я беру свои документы и захожу в двухэтажное здание. Вижу снующих туда-сюда военных разных рангов, от сержанта до генерала. Ни одного гражданского. Спрашиваю у пробегавшего мимо меня капитана: «Где начальство?». — «На втором этаже». Поднимаюсь. Вхожу в большое помещение, посреди которого стоит огромный (по площади) стол. На столе лежат какие-то карты, бумаги. Вокруг стола военные, но уже высокого ранга: майоры, полковники и генералы разных видов войск (ориентируюсь по погонам). Все, по своим группкам, обсуждали какие-то проблемы, делали пометки на картах, планшетах, блокнотах. Были заняты, как говорят, по-уши. До меня, естественно, никому не было дела, меня и не замечали. Мне, вообще-то, это показалось странным.
Я начал понимать, что попал куда-то ни туда. Спрашиваю: «Это помещение Правительственной комиссии?». Кто, не знаю звания, так как он был в спецодежде, мне автоматически, как будто знал меня с детства, ответил: «Нет, она располагается в здании напротив». А странным мне показалось то, что в штабе, штабе военных, меня никто не остановил и, как минимум, не спросил, а что мне здесь нужно. Будь у меня автомат, я бы их всех положил! Проник в святая святых никому неизвестный человек и всем — до лампы!? Мне это как-то не понравилось, я ведь воспитывался в Средмаше, где подобное не допускалось.
Ну, напротив, значит — напротив. Переехали площадь, подхожу к входу, выходит дежурный. В спецодежде. «В здании никого нет, комиссия начинает работать с 8-00». Было 6-45 утра. Спросил, где можно отдохнуть? В общежитии техникума, за горкомом КПСС. Приехали. Азотчиков и водителя устроил спать, а сам пошел в горком. До 8 утра оставалось чуть больше получаса. Город спит, военный штаб гудит как улей, в здании Правительственной комиссии только дежурный на дверях, ничего не знает. Куда приехали, что за обстановка, станцию не видели, до нее еще 12 км, как я узнал позже. Опять она — неизвестность. В 8-00 дежурный распахнул дверь и сказал, что комиссия заседает в зале слева на втором этаже. Сам удалился, видимо готовился к пересменке.
Я поднялся на второй этаж, зашел в зал. Это был обычный зал заседаний человек на сто. С небольшой со сценкой, на которой стоял длинный стол (столы сдвинутые в длинный ряд) покрытый зеленым сукном с двумя телефонными аппаратами. Позже узнал, что один из них — правительственная связь. Сел в кресло на первом ряду и стал дожидаться кого-нибудь. Хоть и не спал уже сутки, сна — ни в одном глазу. Жду, размышляю, слава Богу, доехали. Что-то еще будет. Что будет? Одному Богу известно. Где-то через минут сорок появился в зале Геннадий Александрович Шашарин — Заместитель министра Минэнерго СССР — Председатель Правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Я представился ему. До этого мы были знакомы с ним, но шапочно. Я его, конечно, знал. Все-таки — замминистра. А он видел меня на совещаниях, когда посещал Курскую АЭС. И — не более. Я доложил ему, что по распоряжению начальника ВПО «Союзатомэнерго» Г. А. Веретенникова прибыл на Чернобыльскую АЭС в его распоряжение. Он поздоровался, прошел на сцену за стол, сказав мне: «Посиди, я сейчас разберусь кое с чем и тогда займусь тобой». Я присел на то же кресло и стал ждать. А он взялся за телефоны и начал куда-то названивать по одному телефону и кому-то по-другому (правительственному) отвечать и докладывать.
Я, конечно, весь свой слуховой аппарат мобилизовал на слушание его разговоров. Ничего практически не понимал, лишь некоторые фрагменты его разговора мне были знакомы и понятны. (Радиоактивная обстановка? Сколько людей вывели из зоны? Какие параметры на 1, 2 и 3-ем блоке и т. д. и т. п. Ну, хоть что-то — привычное). Слушая, вслушиваясь, пытаясь сообразить, я начал чувствовать: «А жизнь-то налаживается!». Я начал понимать, что появилась, пока совсем непонятно откуда взявшаяся, точка опоры! И совсем не та, на которой я сидел в кресле! Неизвестность, как-то, стала не очень давить на мозги, что явно свидетельствовало о том, что они еще есть, иначе и давить было бы не на что! Я уже даже, как-то, перестал вслушиваться (в зале в это время мы были еще только двое) в телефонные разговоры Геннадия Александровича. Начали появляться в моем мироощущении какие-то новые нотки. Мне становилось интереснее. Я, как бы, начал уходить в себя. И тут... В коридоре послышались тяжелые шаги невидимых людей? Рывком открывается дверь в зал (как она не сорвалась с петель от такого рывка?), в зал вваливаются человек пять во главе со здоровым мужиком, обладателем страшно хриплого голоса: «Вы, мало того, что взрываете станции, Вы еще и работать не даете!». Клянусь! Я до сих пор помню этот крик души, слово — в слово! Напор этих людей был настолько неожиданным и мощным, что у меня сложилось впечатление, что Геннадий Александрович готов был залезть под стол. Я —то вообще — замер! Чуть позже узнал, что этот богатырь с хриплым голосом, был Министром угольной промышленности СССР. Имя его — Щадов Михаил Иванович, но о том, что он выпускник Томского политехнического института я узнал только через пять лет, когда мы — ликвидаторы собрались в Академии Генштаба Минобороны СССР на пятилетии со дня Чернобыльской катастрофы. Тогда я и напомнил ему этот эпизод и его слова. Мы посмеялись с ним вдосталь, а он: «Неужели я так говорил? Надо пред Геной извиниться!»
Рабочая обстановка, начатая М. И. Щадовым, вошла в обычную колею, и Г. А. Шашарину было, конечно, не до меня. Приблизилось время обеда. Он, оказывается, не забыл и спрашивает: «Обедал?» — «Нет» — «Ну так иди — пообедай, потом вернешься, тогда и займемся тобой». Честно говоря, мне уже не есть, а жрать хотелось! Чего мы там — у гаишников — только «червячка заморили», торопились, потому как впереди чёртова неизвестность. Спустившись на первый этаж я увидел того же ночного дежурного? В чем дело? Оказывается сменщик не пришел! Посочувствовав, я спросил его: «Где тут какая-нибудь столовая или харчевня?» — «Да вот, идите налево по улице и как почувствуете запах пищи, заходите. Там военные открыли столовку. Это от штаба — дома через три».
Не скажу, что ноги сами понесли, однако! Действительно, смотрю впереди в один из домов люди в униформе. В спецодежде, не разберешь, кто есть кто, да кому это было надо? Сюда все шли есть! И причем здесь: кто это есть? Одни входят, другие, облизываясь, выходят. По мере приближения почувствовал запах мясной тушенки! Ура! На всякий случай обернулся: она (неизвестность) вроде бы и рядом, и, вроде бы ее и нет. Ну, думаю, проверяя в кармане присутствие денег (командировочные-то мы успели получить), жизнь то налаживается! А харч, он и в Африке — харч!
Захожу. Становлюсь в очередь к раздаче. За раздачей снуют молодые ребята в белых (и не совсем белых тоже) халатах и раздают пищу. Кассира не вижу. Меню отсутствует, но никто его почему-то и не спрашивает, при этом. Но, все же, меню «существовало». Но за «прилавком» и в натуральном виде: один котел с флотским борщом, второй — с гречневой кашей, третьей была большая кастрюля с тушенкой, четвертым был котел — с компотом из сухофруктов, завершал все это меню (пятым) поднос с нарезанным по армейским меркам черным хлебом. Все на виду. Никаких пояснений не надо. Бесплатно. И совсем не потому, что нет кассира. Так было все то время, пока я там работал — по 30 ноября 1986 года, включительно.
Мне почему-то вспомнилось время конца войны, лето 1944 года. Папа и старший брат Анатолий были на фронте. Папа — брал Кенигсберг, брат — гонял бендеровцев (боевое братство «героя» Украины по-ющенковски), второй по старшинству брат Юрий — выпускник Томского железнодорожного техникума работал на железнодорожной станции Тайга путевым обходчиком, сестра Тамара (16 лет) работала кассиром в хлебном магазине, я готовился к поступлению в 1-ый класс, а самый младший Олег еще в детский сад ходил.
Так вот. В один из тех летних дней мама взяла меня с Олегом и повела на базарчик под народным названием поэтическим названием «Колокольчик» (рядом был продовольственный магазин с колокольчиком на входе) за «Исток», так называлась территория города, исторически заселенная в основном татарами (национальных вопросов у нас в те времена не было), который находился под горой вдоль реки Томь. Там в то время, оказывается, находился пункт распределения американской помощи детям по Ленд-Лизу. Мама предъявила какие-то справки (важность которых мы с братом тогда уже понимали, хлеб-то выдавался в магазинах по карточкам) и получила на нас двоих подарки: банку американской тушенки и детскую рубашку в клетку — ковбойку. Пришли домой, мама сварила картошки, и мы устроили пир на весь мир. Запах тушенки разрывал наши ноздри, и мы с Олегом с ребячьей мудростью, усвоенной голодом военных лет, с жадностью поглощали картошку, которой было много, оставляя тушенку, которой было категорически мало, на финальную часть. Рубашка по всеобщему согласию на открытом семейном совете решили отдать самому младшему. Вспомнил я это к тому, что за это короткое, менее суток время, появилось какое-то подсознательное чувство близости войны, прифронтовой полосы, хоть я и пережил (а папа прошел их от звонка до звонка) Великую Отечественную и Японскую войны, но пережил их в глубоком тылу, в Томске, бывшей столице Сибири. Вот Вам и тушенка! Та — в 1944, и эта — в 1986. Ее запах в ноздрях по-разному голодного человека связал события, разделяемые сорока двумя годами! Оказывается и запах обладает коммуникативными свойствами. Вот Вам и связь времен!
Однако вернемся. Пообедав, я поспешил в штаб. Г. А. Шашарина не было. Он тоже был на обеде. Я сел на то же место, где и утром сидел, и стал его дожидаться. В зал заглядывали какие-то люди, все в спецодежде, не поймешь, кто есть кто, и исчезали, т. к. начальство отсутствовало. Наконец, появился Геннадий Александрович: «Ну, давай, займемся тобой» .Геннадий Александрович расспросил, где и когда я работал до сего момента. Я ему рассказал о Томске-7, о Курской АЭС. Вдруг он говорит мне: «Слушай! Бери бумагу, садись и напиши, что бы ты считал необходимым сделать в ситуации, которая сложилась здесь». Думаю, если бы было зеркало, то я (к счастью, свидетелей в этот момент не было) должен был бы увидеть, что глаза мои округляются и пытаются вылезти из орбит. Волоса становятся дыбом и чепчик приподнимается. Пот не покрывает лоб, но, эта уже проклятая мною (позже я понял, что в этом я был далеко не одинок), неизвестность, уже совсем в другом качестве, прихватила меня за грудки и сжала горло.
Слегка «очухавшись», вернув на место глаза и волосы с чепчиком (во всяком случае, мне так показалось, или хотелось, чтобы так произошло — зеркала-то не было), не совсем своим голосом говорю: «Да вы что? Ведь я только что приехал, ничего не видел, не знаю обстановки!? Ну и чего же толкового я могу написать?» А он мне, совершенно спокойно, как будто только и ждал моего приезда, как будто только для этого меня и командировали сюда (смеюсь, теперь смеюсь, тогда было не до смеха) говорит: «Вот и хорошо, что ничего не видел. Давай пиши, как понимаешь, и как подсказывает тебе томский опыт. А сейчас езжай, устраивайся с жильем в пионерском лагере „Сказочный“, там живут все, кто приехал с других станций. Устраивай своих людей. С твоими предложениями жду тебя через два дня. До встречи». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Запах тушенки незаметно исчез, куда-то вдруг улетучился, как корова языком слизнула.
Пошел в общежитие, где отдыхал мой экипаж. Оказалось, что они тоже уже пообедали и ждали меня. В те времена, в мае месяце, проблем с питанием у любого, кто бы и кем бы он ни был, в Чернобыле не было. Будь то — столовая, или — армейская походная кухня (тогда весь общепит обеспечивало Минобороны СССР): заходи, везде накормят, не спрашивая — чей ты. Прямо по русской поговорке: «Накорми, напои, спать уложи, а потом — спрашивай». Вся страна работала на Чернобыль. Быстренько собрались, разузнали дорогу и поехали. Примерно, через 17 км подъехали к пионерскому лагерю, на территорию не пускали, и правильно, чтобы не завозили на колесах радиоактивную «грязь». Переоделись в чистую спецодежду, и только тогда нас пропустили на территорию пионерского лагеря. Поселился я в палате № 20, на втором этаже, на свободной, второй от окна, койке с железными спинками и «панцирной» сеткой. Матрасы ватные, такие же подушки, но белье — чистое. Всего в палате было 20 коек и один стол. Протиснуться между койками удавалось с трудом. Все говорило о том, что проблема с жильем была немалой. Детей в нормальных условиях в такой палате находилось не более 10 человек. Обошел весь лагерь. Добротный. Двухэтажные спальные корпуса. Котельная. Баня. Большая столовая. Спортивные площадки. Медицинский корпус. Короче, инфраструктура — богатая. Ухоженный. Прекрасный сосновый лес. Рядом речушка, не помню названия. Красота! Детям — раздолье. Я это хорошо понимал, т. к. сам неоднократно отдыхал в пионерских лагерях, слава Богу — в пионерских, а не в тех, которых в Сибири было гораздо больше. Посмотрел расписание работы столовой. Ужин с 19 до 21:30 часа. Начинаю обдумывать задание. Время-то идет. Жду приезда автобусов. Кого-то встречу? Все та же неизвестность. Черт бы её побрал!
В лагере, кроме обслуживающего персонала — солдат, никого практически не было. Все были на работах, кто на какой. Только под одним из навесов, на лавочках вокруг большого стола сидели какие-то люди, с которыми Виктор Петрович Брюханов — директор ЧАЭС (теперь уже — бывший, но хорошо знавший положение, в котором оказался персонал станции, да и кто мог лучше его знать эти проблемы в тот момент?) проводил рабочее совещание. Как я понял, с теми, кто занимался обустройством быта оставшегося в 30 километровой зоне персонала АЭС. Я не стал крутиться около них, хотя было до чертиков интересно послушать, хоть что-нибудь узнать, хоть как-то начать изживать в себе чувство неполноценности, навеянное этой ведьмой — неизвестностью. Для меня потянулись часы и минуты ожидания. Хотелось, чтобы поскорее приехали с работы люди, увидеть кого-нибудь, но лучше своего, или, на крайний случай, знакомого.
К 19:00 начали прибывать первые автобусы со станции. Все приезжавшие проходили те же самые процедуры, что и мы: переодевались, переобувались, мыли руки и проходили на территорию лагеря, «обмеренные» дозиметристами. Такого рода дезактивация была абсолютно необходима и всеми осознанно выполнялась. Мне это понравилось, хотя впоследствии я столкнулся и с — другим? Но, об этом — позже. Люди входили на территорию толпами (автобус приходил за автобусом) и я, чтобы узнать, с кем же меня судьба свела в одной палате, поспешил туда. И, о — чудо! В палату первым входит не кто-нибудь, а мой бывший на Курской АЭС директор: «Владимир Кузьмич! Здравствуйте!» «О, Акимов, а ты как здесь оказался? Здорово! Здорово!» Мы обнялись, «пожулькали» друг друга. Оказалось, волею судеб, что наши кровати стояли рядом, через маленький, в полметра, проход между ними, размер которого определялся шириной стоявшей между ними тумбочкой. Хотя такое считалось роскошью, неприличным по тем меркам излишеством, но — повезло, значит — повезло! Перекурили, обменялись кое какой информацией. Владимир Кузьмич говорит, что надо поспешить на ужин, а то может стать так, что пива нам не достанется. Мы пошли в столовую. И верно. После того, как люди набирали на поднос еду, в конце раздачи стоял солдат (в халате, чепчике и бахилах) и раздавал по одной бутылке пива в одни руки. Я был приятно поражен — пиво было чешское «Пльзень». Пиво, которого в и мирное то время не всегда было можно сыскать! А тут? Тут всем, и без блата! Чудеса для того времени.
С первых дней после аварии был установлен сухой закон. Спиртное было запрещено. Но, как я узнал несколько позже, по рекомендации Минздрава людям, все-таки, выдавалось на ужин по бутылке пива. Мы все с вами помним слова Высоцкого: «Как говорил истопник: „Столичная“, она хороша от стронция». Так вот отсутствие «Столичной», с позволения медицина, восполнялось пивом. Хорошим пивом! Конечно же, такой режим — сухой закон — был оправдан и необходим. Шла война! Война за жизнь. За жизнь свою, родных и близких. И пусть это не покажется читателю крикливым и преувеличенным — за жизнь человечества на планете Земля. Война. Это — тяжкий труд. Труд за пределами человеческих возможностей. Труд, имя которому — ПОДВИГ! ПОДВИГ, приведший к ПОБЕДЕ! Об этом — ниже.
Да. Шла война, война с невидимым врагом. Мы с Вами прекрасно знаем, что самый страшный враг это тот, которого ты не знаешь, не видишь, не ощущаешь (вспомните сегодняшние высказывания японцев на фоне инцидентов на АЭС «Фукусима-1» в результате цунами, возникшего в результате мощнейшего землетрясения 11 марта 2011 в Тихом океане). Во многих случаях обстановка была такой, что ни один прибор не мог определить уровень «загрязнения», его зашкаливало! Как мы в свое время говорили: «Стрелка загнулась».
Да, «стрелка загнулась». Но было еще такое слово, как «надо». Надо! И Эдик Сааков (мой друг Эдуард Саакович — главный инженер ПО «Атомэнергоналадка») 8 мая 1986 года проник в бассейн-барбатер. Такое могло быть доверено только специалисту, высококлассному, знающему географию реакторного отделения, только проверенному человеку, только человеку высочайшей ответственности и просто мужественному человеку. Он определил, что бассейн не разрушен (а это означало, что перекрытие между реакторным пространством и бассейном-барбатером выдержало) и в нем есть вода, перекрыв заодно сливную задвижку! Он настолько быстро и мастерски провел эту операцию, что «заработал всего лишь пять рентген» — годовую норму за полторы минуты! Стрелка действительно была напрочь «загнута». Так было. Так было еще не однажды, так было со многими, так было до тех пор, пока не был возведен объект «Укрытие», в народе названный «Сакофагом», — до 30 ноября 1986 года. Но об этом — ниже.
Поужинали мы с Владимиром Кузьмичем, вечер уже стал уступать ночи. Мы, покуривая, не спеша, направились в сторону нашего пристанища — «палаты № 20». Я, конечно, старался побольше расспросить Владимира Кузьмича. Вопросы то были самые простые, других и не придумаешь: «Как? Что? Почему? Кто?» И снова: «Как такое могло быть? Не может быть? Что-то не пойму? Неужели?» И т. д. и т. п. Я рассказал Владимиру Кузьмичу историю моего появления здесь. О задании, которое получил от Председателя Правительственной комиссии Шашарина Г. А. Так, незаметно мы добрели до нашего домика. Поднялись на второй этаж. Зашли в палату. Кузьмич: «Давай спать. Пиши с утра. Вечером приеду — посмотрим, что ты напишешь. Мужики! Гасите свет». Вот так закончился мой первый день пребывания, но пока лишь только в прифронтовой полосе. Уснул. Уснул вместе с неизвестностью. Почему я так много места уделил своему первому дню появления в Чернобыле? Сам не знаю, но понимаю это так. Уж если мне, на 12 день с момента катастрофы, Председатель Правительственной комиссии поручает написать «Что нужно делать сегодня», это означает то, что первый шок прошел и надо настраивать плановую работу. Буквально через несколько дней работы я убедился, что мыслил Председатель правильно. Я был назначен заместителем главного инженера ЧАЭС по ликвидации последствий аварии и весь май месяц я работал «ночным директором». Так называли нас. Нас было трое: Валентин Мельник, я и третий — зам гл. инженера тогда строящейся Татарской АЭС. К стыду имени не помню. Он очень мало поработал с нами.
Нашей главной задачей было обеспечение координации деятельности, чуть ли не всех министерств и ведомств СССР, собранных Правительственной комиссией на крайне ограниченной и «загрязненной» выше всех мыслимых и немыслимых пределов радиоактивными выбросами активной зоны реактора 4-го энергоблока территории АЭС (за пределами главного корпуса АЭС). Спрос был очень строгим. Немало чинов и генеральских погон «полетело» в то время. В главном корпусе АЭС командовал главный инженер ЧАЭС. В таком режиме и в таком качестве я проработал весь май и начало июня 1986 года. Самым запомнившимся для меня днем, ставшим, я в этом убежден, главным поворотным днем во всей истории работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС стало 18 мая 1986 года.
В этот день я («ночной директор»), как обычно, занимался своей беспокойной, но рутинной работой. Около 9 часов утра раздался звонок по одному из многочисленных телефонов, разместившихся на моем рабочем столе. Это телефонное «богатство» не только позволяло нам при необходимости звонить в любую точку Советского Союза, но и из его любой точки (я уж не говорю о ЦК КПСС, СМ СССР, Минэнерго, Минсредмаша, Минобороны и прочих великих) нас «доставали» нужными и ненужными вопросами и расспросами. Этот звонок ничем не отличался от других и я, приложив трубку к уху, представился (так было положено): «Акимов». В трубке: «Евгений Михайлович, здравствуйте! С вами говорит Рябев». — «Лев Дмитриевич, здравствуйте!» (Это звонил Первый Заместитель Министра Минсредмаша Рябев Лев Дмитриевич). «Евгений Михайлович, через час мы с Министром приедем к Вам. Вы сможете доложить Министру о состоянии дел на АЭС?»- «Конечно! Доложу. На то я здесь и поставлен». Ответил спокойно, но с тоном легкого недовольства про себя, конечно: «А на кой черт мы тогда здесь работаем?» Сказать то сказал, однако пот на лбу слегка выступил. С 1961 года я 14 лет проработал в Средмаше, как сейчас называют на реакторном заводе, а в те времена — на объекте № 5 в хозяйстве товарища Степанова (Томск-7).
Наш легендарный Министр — трижды герой Социалистического труда — Ефим Павлович Славский нередко посещал наш комбинат и объект № 5, в том числе, но мне ни разу не посчастливилось его даже видеть, не то что бы разговаривать, а уж докладывать... Такое и в голову не могло тогда прийти. Пот вытер. Собрался с мыслями. Первое, что решил сделать, позвонить главному инженеру АЭС и узнать, знает ли он о приезде Министра на станцию? Оказывается — не знает! Я ему говорю: «Давай ко мне! Разберемся, кто и о чем будем докладывать». В то время обязанности главного инженера ЧАЭС исполнял, прибывший с Балаковской АЭС, бывший начальник турбинного цеха ЧАЭС, Плохий Тарас Григорьевич. К сожалению рано «ушедший» от нас. Мы с ним быстренько договорились, что первым о всех работах и проблемах в главном корпусе АЭС докладывает он, а потом я — обо всем, что творится на промплощадке. Стали готовиться.
В 11 часов 10 минут (я этот день помню, как сейчас!) к нам в «бункер» (так называли в то время помещение ГО в здании АБК), где находилось наше рабочее место «ночных директоров», вошла большая группа знакомых и незнакомых людей, человек 10 — 12. Впереди шел Рябев Лев Дмитриевич. Среди других мы, не обращая внимания на знакомых, лихорадочно «вычисляли» его — Славского Е. П. Тарас-то, оказывается, тоже никогда не видел Министра! Нас выручил Лев Дмитриевич. Приблизившись к столу, за которым мы с Тарасом стояли (думаю, что навытяжку!). Он обернулся к идущему за ним человеку и со словами «товарищ Министр» представил ему нас, к нашему счастью ничего не напутав. Ефим Павлович поздоровался с каждым из нас за руку и сел с нами за стол с одной стороны (Славский Е. П., Акимов Е. М., Плохий Т. Г.), а вся остальная группа пришедших с ним людей и руководство АЭС выстроились — с другой стороны.
Первым докладывал Тарас. Он кратко рассказал о состоянии дел на первых трех блоках ЧАЭС (реакторы заглушены надежно, ведутся плановые работы по дезактивации помещений и оборудования, делается оценка их состояния и готовности к выводу на мощность, проводится техническая учеба персонала в связи с изменившимися условиями работы в поставарийный период, состояние материально-технического обеспечения и прочее, прочее, но — коротко).
Вторым докладывал Министру я: какие работы ведутся на территории промплощадки АЭС, какие министерства, ведомства и организации задействованы, какова дозиметрическая обстановка, как осуществляется допуск людей и приемка выполненных работ и другие, интересовавшие его сведения.

Необходимо, просто необходимо, отметить, что как-то незаметно, каким то неведомым всем нам способом, весь разговор с Ефимом Павловичем из формата «докладов начальству» превратился в деловую беседу, казалось бы давно знакомых, людей. Без шарканья ножками и щелканья каблуками. Без: «Чего изволите?». Без всякого наносного и неестественного. Беседа длилась минут 25 — 30. Все, кто сидел и кто стоял вокруг, ждали какого то результата. И, как мне кажется, его не только просто ждали, к нему все стремились и внутренне были готовыми. Результата! Какого результата? Да хрен его знает какого! Но все ждали, уверен, что и Ефим Павлович сам ждал его и внутренне готовился к нему. Он то больше всех нас понимал ситуацию. Среди нас он был самым ответственным! Самым могущественным. Ведь прошло уже 28 суток с момента катастрофы. Много сделано, много делается, много еще надо сделать. Обстановка прояснилась, выработались новые подходы, появились новые навыки в работе, приобретался опыт. Да, именно опыт работы в условиях, в которых человечество за всю его историю никогда не работало! Опыт, которого никто и никогда не имел! Опыт, которого еще было так мало, а сделать надо было так много! Опыт, которого еще и еще не хватает! Опыт по цене, которой еще никто не знает! Но, надо! Отступать некуда.
Ефим Павлович слушал нас очень внимательно, не перебивал, вопросы задавал только после окончания нами своих докладов. Все стоящие вокруг стола слышали всё, о чем мы докладывали, и слушали все вопросы Министра и наши ответы на них. Как мы потом с Тарасом поняли: его — Министра — прежде всего интересовали два вопроса: 1. Надежность «заглушения» остановленных реакторов (вопросы Тараса). 2. Дозиметрическая обстановка на территории АЭС и возможность работы большого количества людей и механизмов (японские то роботы «ослепли и умерли» в далеко не критической радиационной обстановке!) в таких экстремальных условиях внутри главного корпуса и на территории промплощадки АЭС (это были мои вопросы).
Когда я закончил свой доклад и ответил на вопросы Ефима Павловича, возникла какая-то пауза, секунд 10 — 15 стояла тишина, все молчали. Молчал и Ефим Павлович. Затем, словно стряхнув с себя пелену этой задумчивости, поднял голову и спросил, как бы в пространство: «А третий блок у нас надежно заглушен?». Времени с момента окончания мною доклада прошло всего-то ничего и я, как бы еще не выпал из ритма, произнес: «Три и семь десятых процента подкритичности». Ефим Павлович молчал, молчали и другие. Так длилось секунд, может быть, 15 — 20. Выдержав такую паузу (о чем он думал?), Министр поднял выше голову и, уже явно глядя на Льва Дмитриевича, громче и раздельнее произнес: «Так третий блок у нас надежно заглушен?» Теперь всем сразу стало ясно к кому обращен вопрос. Кому отвечать. Л. Д. Рябев в несколько удивленном тоне произнес: «Так Вам же Евгений Михайлович сказал!» На что Ефим Павлович в несколько более резком тоне произнес: «Я спрашиваю не Евгения Михайловича, а тебя, моего первого заместителя!» «Три и семь десятых процента подкритичности!» — выдохнул Лев Дмитриевич. Конечно же, он об этом и без меня знал, но я хочу еще раз подчеркнуть, что обстановка была чрезвычайно не простая.
В то время работа по ликвидации последствий этой планетарной катастрофы уже шла полным ходом, широким фронтом, большими силами, весь Советский Союз был вовлечен. Масштаб «фронта», развернутого практически всего за месяц, поражает! Люди творили чудеса. Рождались герои. Патриотизм советского народа, патриотизм, приведший к Победе во Второй Великой Отечественной, был вновь востребован и продемонстрирован советским народом! Катастрофа на Чернобыльской АЭС потому и называется планетарной, ее следы были обнаружены на огромнейшем пространстве от Испании до Красноярского края и от Швеции до Северного Кавказа. Мир содрогнулся. Надо было спасать мир. Надо было спасать свое население и страну. Без патриотизма и патриотов — это невозможно!
Полным ходом шла дезактивация помещений и территории АЭС. Строились пункты санитарной обработки людей и транспорта (ПУСО). Возводилась «стена в грунте» вокруг АЭС, строились дамбы и гидросооружения (чтобы радионуклиды с грунтовыми и поверхностными водами не могли попасть в акватории рек Припяти и Днепра, а далее в бассейны Черного и северных морей). Прокладывались новые дороги, газопроводы. Сооружались новые могильники для РАО. «Обносился» колючей проволокой г. Припять (появились мародеры!). Строились палаточные поселки для военных, милиции (в выселенных деревнях и поселках жить было нельзя, т. к. они были очень «грязные»).
Проектировались в Киеве, Брянске, Гомеле и других городах и населенных пунктах Украины, России и Белоруссии новые жилые кварталы для эвакуированных и отселенных из Припяти, Чернобыля и из других населенных пунктов 30 километровой зоны. Уже выбиралась площадка под строительство нового города «Славутича» для эксплуатационников Чернобыльской АЭС. Полным ходом шел сбор пожертвований в пользу пострадавших, лишившихся дома и крова, работы, школ, детских садов и яслей, дач, гаражей, машин и прочего, прочего и прочего. Письма сочувствия, поддержки и полезных советов приходили со всех концов Советского Союза и из-за рубежа, по несколько мешков в день. Кто их читал — не знаю. Куда они делись — тоже. Вот бы сейчас их почитать! Подшить в папочки и систематизировать. То был бы многотомный сборник добрых советов и пожеланий. Заявлениями добровольцев были завалены столы, шкафы и углы в помещениях Правительственной комиссии, кабинетах и приемных ее членов. Суматоха первых дней начала приобретать плановый характер. Начали появляться согласованность в действиях министерств, ведомств, предприятий и организаций, местных, республиканских и всесоюзных органов власти и всех других участников этого «броуновского» движения. Стали появляться, первые результаты.
Фронт работы все больше и больше расширялся. Нарастали объемы, вовлекались все большее количество «родов войск». Делалось все. Делалось все, что было необходимо, а иногда и то, что было совсем не нужно и даже вредно. Но! Делалось! Делалось! Делалось... Делалось в большинстве случаев такое и так, как не делалось никогда и нигде до! Фантасты просто отдыхали! Но не хватало всем чего-то? Чего-то важного? Чего-то самого ГЛАВНОГО? Всех это тревожило. Поверьте этому. Такое состояние трудно передать словами. Его и пережить-то стоило больших трудов. Поверьте мне — свидетелю и участнику.
Выслушав своего Первого Заместителя, Ефим Павлович, выдержав небольшую паузу, раздельно и громко, чтобы всем было слышно, глядя на Льва Дмитриевича, произнес: «Всё! Бросайте всё! Занимайтесь только четвертым блоком!» Вновь повисла тишина. Думаю, что смысл сказанного сразу ни до кого не дошел. Наверняка все пытались вначале сообразить, а потом и осознать суть сказанного. Что значит — бросайте всё? Кто и что должен был бросить? Ведь все мы, каждый в своем качестве и в рамках порученного каждому дела, все в сумме и занимались всем? А тут: «Бросайте всё!» ??? Но, слава Богу, такое оцепенение длилось недолго. Все вдруг (я в этом уверен!), может быть не все сразу, но начали, начали с необходимой для каждого задержкой по времени (то были, конечно же, секунды) понимать смысл сказанного. Мы все вначале услышали, запомнили, а уже только потом, следом в нашем сознании «вдруг» начало укладываться то чего-то, чего нам, загруженным каждым своей рутинной работой, не хватало... «Бросайте всё! Занимайтесь только четвертым блоком!». Конечно же, эти слова относились только к силам Средмаша. Возьму на себя смелость утверждать, что он, безусловно, знал во всех деталях обстановку на площадке; он, безусловно, понимал что нужно было делать и был готов к этому. Однако, ему, опытнейшему из великих, видимо, не хватало каких-то мелочей, которые, конечно же, не остановили бы, ни при каких условиях, принятия им единственно нужного в данный момент решения. Мелочей, которых, возможно и не существовало.
Возьму на себя смелость предположить, что он хотел найти и убедиться в том, что: если даже эти мелочи и существуют, то они ничтожны и их можно, не задерживая движения к ГЛАВНОМУ, устранять по ходу дела! Вспомним «Атомный проект»! Разве там не было мелочей? Были! Но разве они помешали создать «Атомный щит Родины» и первыми оказаться в Космосе? Ефим Павлович был из того великого поколения гигантов мысли и дела, которое, обладая колоссальными знаниями и опытом, без личного понимания ситуации, без ощущения всем своим нутром и поверхностью готовности людей совершать поступки, не принимало решений. Решений, определяющих направления главного удара. Решений, ведущих к достижению ГЛАВНОГО! Еще раз возьму на себя смелость сказать, что Ефим Павлович, безусловно, шел к нам с уже заготовленным им самим решением. И он это мог сделать и без нас. Но ему, как русскому полководцу перед боем и отдачей приказа о наступлении, хотелось, было просто необходимо, побывать на передовой. Так ему было нужно. Так ему было легче. И мы с Тарасом (светлая ему Память), хоть в какой-то малости, помогли. Мы (он — там, а я пока еще здесь) гордимся своей причастностью к этому великому РЕШЕНИЮ.
18 мая стало поворотным моментом во всей компании 1986 года. Компании, когда при наращивании усилий всех сил и средств по всему фронту, потребовалось вывести на авансцену ударную группировку из числа тех, кому и было положено, кто больше всех был изначально готов, кто мог это сделать профессионально, в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями.
Ударную группировку под кодовым названием СРЕДМАШ! Ведь с Министром пришли и приехали люди — самые опытные и, как бы сейчас сказали, самые «крутые» специалисты, воспитанные Министром, создавшие с Министром отрасль, имя которой СРЕДМАШ!
Ударную группировку под командованием трижды Героя социалистического труда, одного из создателей «Атомного щита Родины», атомной промышленности и энергетики СССР, бессменного Министра Министерства среднего машиностроения СССР, легендарного Ефима Павловича Славского!
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
P. S. Жан Жак Перелен (Франция), главный специалист МАГАТЭ по радиационной безопасности: «Никто! Ни американцы, ни немцы, ни французы, ни японцы в отдельности и даже все вместе взятые не смогли бы сделать то, что сделал советский народ в Чернобыле всего за 7 месяцев и 5 дней в таких запредельно опасных условиях! Воздвигли объект „Укрытие“ („Сакофаг“)! Я сам его видел! И мне все же не верится, что такое возможно!»
Евгений Михайлович АКИМОВ —
участник ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС в 1986 году